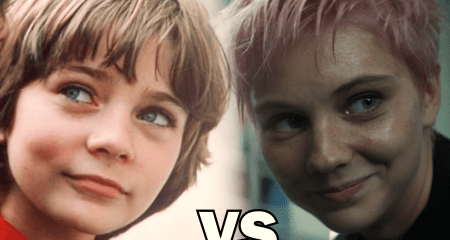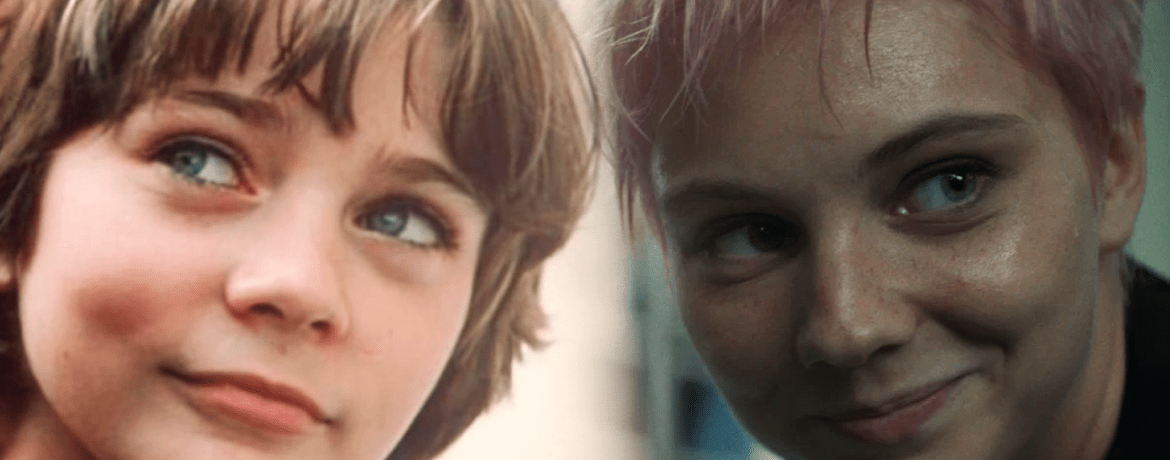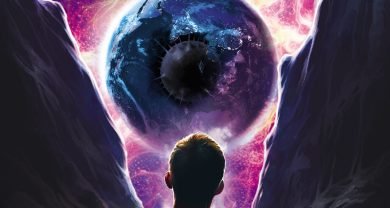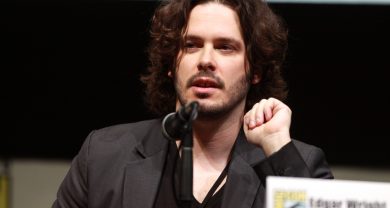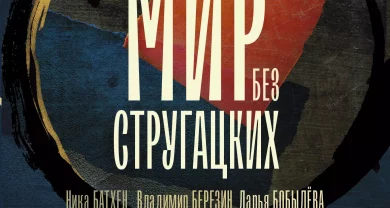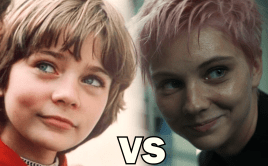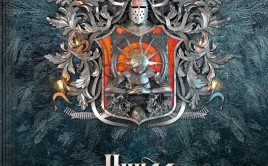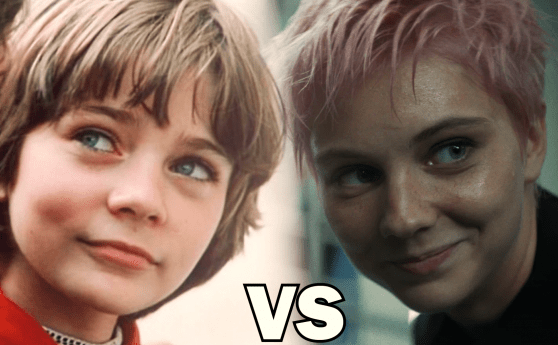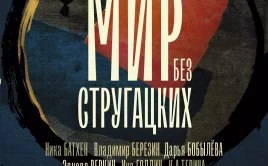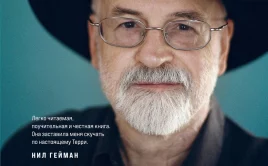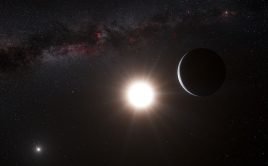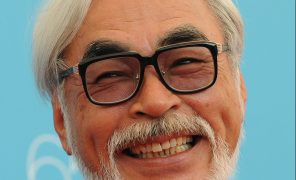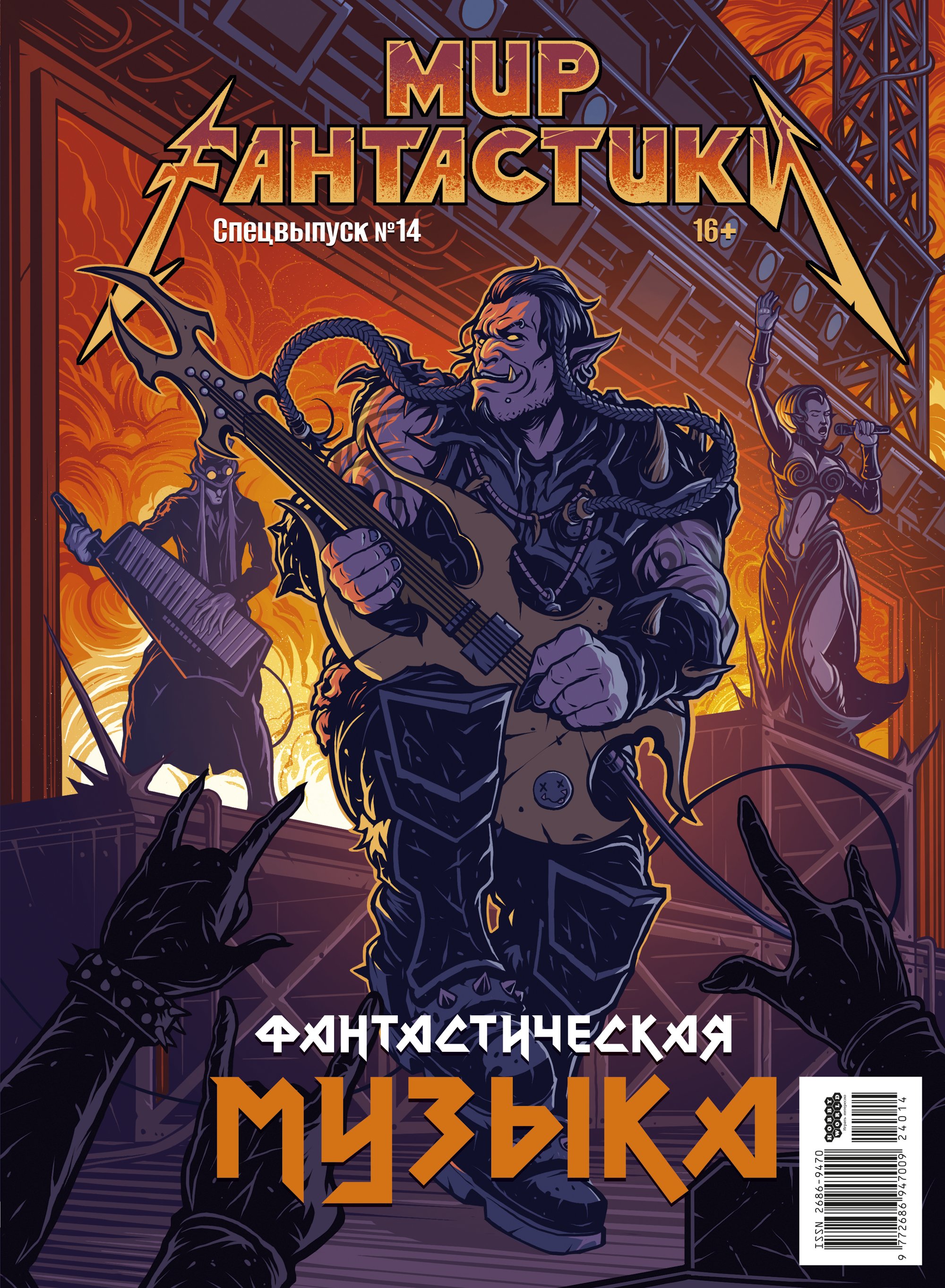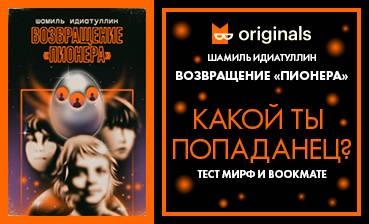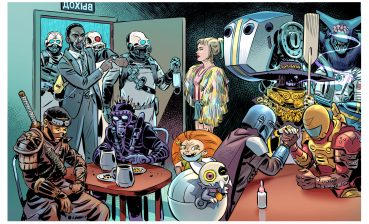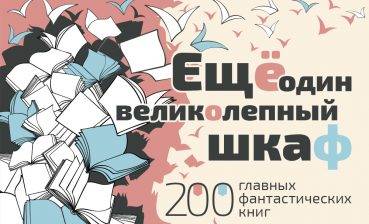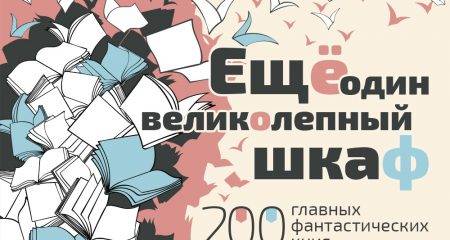Последние новости
22 апреля 10:30
20 апреля 11:00
19 апреля 17:38